![]()
 2 Кор., 196 зач., XII, 20 — XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24-34, и за среду (под зачало): 2 Кор., 197 зач., XIII, 3-13. Мк., 18 зач., IV, 35-41. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.
2 Кор., 196 зач., XII, 20 — XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24-34, и за среду (под зачало): 2 Кор., 197 зач., XIII, 3-13. Мк., 18 зач., IV, 35-41. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.
—————— ВТОРНИК ——————
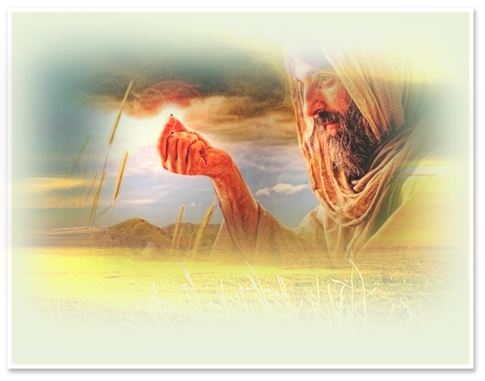

Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова
О сеянии, росте и жатве

Мк.4:24-34, 2 Кор.12:20-13:2
 Господь сказал, что Царствие Небесное «подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он; ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».
Господь сказал, что Царствие Небесное «подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он; ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе».
Здесь говорится о таинственном взаимодействии человеческой души с семенем слова Божия. Бывает, что даже не вполне осознал услышанное, но оно все равно упало в душу и принялось. Один человек, хотя довольно поздно стал верующим, но с шести лет помнил, как бабушка рассказывала об Иосифе, которого братья из зависти продали в рабство, и что было потом. Многое прочитанное или услышанное в детстве забылось, а это – запомнилось. Потому что душа создана Богом, создана для истины, и всякое слово истины падает в душу как в родную землю. Проходит время, и вдруг – появился зеленый росток: душа взалкала правды, захотела знать: что делать? как жить? что можно, а что нельзя?..
Но иногда человек хотя и хочет, но еще не может жить по истине, и хотя задает эти вопросы, но задает со скрытым страхом: а вдруг скажут невыполнимое? Он спрашивает: можно ли смотреть телевизор? Можно ли красиво одеваться? Можно ли работать на такой-то работе? И так далее. Тяжело слушать такие вопросы и тяжело на них отвечать, потому что к христианству тут подход сразу не с того конца. Христианство – не тюрьма, порог которой едва переступишь, как сразу лишаешься всего дорогого и привычного.
В землю твоей души упало зерно Царствия Небесного и дало росток. Не суетись и не дергайся. Никто тебя не заставляет сразу и от всего отречься. Только по поводу прямого греха Апостол предупреждает резко и определенно: «ибо опасаюсь, чтобы не найти» «у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков». Таковых Апостол предупреждает: «когда опять приду, не пощажу». А насчет остальных человеческих дел – «все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор.6:12).
Главная задача – не затоптать появившийся росток: читай слово Божие, соблюдай молитвенное правило хоть по-немногу, но обязательно каждый день. Хотя бы на два часа в неделю (из ста шестидесяти восьми!) приди в храм Божий для совместной со всей Церковью молитвы. А во всех своих мирских делах внимательно смотри: все ли идет тебе на пользу, и не стал ли ты рабом чего-либо? А Господь в свое время произведет и колос, и чудесное зерно в колосе. И вкусив этого плода, почувствуешь и горечь других плодов, и бесплодие многих своих дел. И сам вдруг потеряешь вкус к тому, что раньше любил, и сам отвратишься от того, от чего ранее считал невозможным отвратиться. Твоя душа, принявшая семя и пронизанная пущенными им корнями сама захочет истины и добра. И с удивлением увидишь, как самое малое зерно стало «больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
А дальше Господь говорит, что едва только «созреет плод, немедленно» посылается «серп, потому что настала жатва». Для нас всякая смерть – случайна, несправедлива, жестока. Но на самом деле она всегда – Божье дело. Сказано: «Немедленно», – чтобы не перезрело и не осыпалось… Будем же уповать на силу принятого нами семени Царствия Небесного. И даже если у нас еще нет решимости выбрать спасительный тесный путь, будем по крайней мере готовы к тому, что Господь Сам протащит нас этим тесным путем зерна и вытащит из тьмы к свету. А жатва для земледельца – долгожданный праздник! – ведь ни минутой раньше, ни минутой позже посылает Владыка Свой серп.

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова
Вторник седмицы 14-й по Пятидесятнице

На Мк.4:24-34.
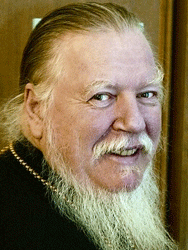 Почему Господь Своим ученикам подробно изъяснял тайну Царствия Божия, а остальным говорил только притчами? Господь никогда не делает чего-то не имеющего спасительного смысла. Человек может быть в таком состоянии, когда говорить ему что-либо невозможно, бесполезно говорить ему про Царствие Божие, он все равно не поймет. Но и совсем ничего не говорить тоже жалко, потому что, может быть, придет время, оттает его душа, и он сможет что-нибудь воспринять. Здесь на помощь приходит притча, то есть короткая, яркая история, которая легко запоминается. Евангелие много содержит этих рассказов, которыми Господь учил народ. Услышит человек притчу, и будет она в его памяти присутствовать, а в нужный момент заложенное ею семя может прорасти. В надежде, что оно прорастет, Господь эти притчи и говорил.
Почему Господь Своим ученикам подробно изъяснял тайну Царствия Божия, а остальным говорил только притчами? Господь никогда не делает чего-то не имеющего спасительного смысла. Человек может быть в таком состоянии, когда говорить ему что-либо невозможно, бесполезно говорить ему про Царствие Божие, он все равно не поймет. Но и совсем ничего не говорить тоже жалко, потому что, может быть, придет время, оттает его душа, и он сможет что-нибудь воспринять. Здесь на помощь приходит притча, то есть короткая, яркая история, которая легко запоминается. Евангелие много содержит этих рассказов, которыми Господь учил народ. Услышит человек притчу, и будет она в его памяти присутствовать, а в нужный момент заложенное ею семя может прорасти. В надежде, что оно прорастет, Господь эти притчи и говорил.
Царствие Божие нельзя передать обыденными человеческими словами; нельзя объяснить неподготовленному человеку, Кто такой Бог, что такое молитва; нельзя объяснить на словах, что такое духовная жизнь, или благодать Святаго Духа, или покаяние, или спасение, или смирение, или радость о Святом Духе. Как нельзя глухому объяснить, что такое Бах или Бетховен, а слепому – что такое Ренуар, или Тулуз-Лотрек, или еще какой-нибудь художник. Это невозможно, нужно просто ждать, когда человек прозреет, и тогда ему показать: разница между желтым и зеленым цветом вот такая, а между синим и красным такая. И потом постепенно возводить от простых к более сложным понятиям.
И вот Господь говорит притчи, сегодня они обращены к нам: «Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Каждый человек живет и устраивает свою жизнь по-своему, он сам себе определяет меру, как ему поститься, сколько ему в храм ходить, сколько молиться. Сам вот так на глазок, сколько ему хочется, столько и отмеривает: хочу, пощусь среду и пятницу, а хочу, не пощусь среду и пятницу – только Великим постом одну неделю перед причастием, и хватит. Хочу, в храм раз в месяц хожу, хочу, каждый день хожу, хочу, два раза в день.
Но какой мерой ты меришь, такой будет отмерено и тебе, то есть сколько ты усилий предпринимаешь для того, чтобы достичь Царствия Небесного, настолько ты к нему и приблизишься. Чем больше подвиг христианский, чем больше человек трудится, чем больше эта мера, которою он свои шаги управляет в Царствие Небесное, тем он к нему ближе. Вот о чем эти слова. Что значит: «Вам прибавлено будет, слушающим»? Кто слушает слова Господни, у того потихоньку расширяется его духовный кругозор, тот постепенно возрастает в Царствии Небесном, оно незаметно в нем прибавляется.
«Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». На первый взгляд вроде несправедливо: как же так, один имеет, а ему прибавляется, а другой не имеет, а у него отнимается и последнее. Что ж, Бог несправедлив? Нет, здесь просто речь совсем о другом, не о том, чтоб богатому богатеть, а бедному беднеть. Речь идет о духовной жизни. Если у человека есть вера и он возгревает ее чтением Священного Писания, молитвой, исполнением заповедей Божиих, то она прибывает. Если имеет человек благодать – а каждый крещеный человек хоть маленькую толику благодати, но обязательно имеет, – и возгревает ее, увеличивает в меру своего подвига, то в нем благодать прибывает. А если он не трудится над своей душой, то у него отнимается и то малое, что он имеет. Наступает смерть, и все земное, что у человека было (а у него на земле есть два блага, духовное и материальное), отнимается, остается только духовное. И если духовного человек не приобрел, то он остается ни с чем, то есть жизнь его прошла впустую.
Дальше Господь говорит о Царствии Божием и о том, как мы его приобретаем: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Царствие Небесное в человеке растет незаметно, недаром Господь сравнивает прибавление Царствия Небесного в человеке с ростом колоса. Вот посади семечко и смотри, хоть ночью выходи, хоть днем, все равно не увидишь, как зерно прорастет, как стебелечек появится, как колос будет расти, как он зерном наполнится, – все происходит совсем незаметно для самого человека. Он живет, старается, молится, постится, впадает в грехи, кается, встает, начинает опять все сначала, и ему кажется, что ничего с его душой не происходит. А на самом деле ум его светлеет, понимание углубляется, он начинает различать то, чего раньше не различал. Сначала, придя в храм, он еще ничего не понимает, не чувствует, для него все чуждо, незнакомо, странно. А через годик-другой, глядишь, многое из того, что было непонятным, стало понятным; и так постепенно, постепенно растет в человеке Царствие Божие. А когда колос созреет, наступает жатва. Жатва – это смерть. Смерть приходит, и Господь сжинает эти колосья. Цель нашей земной жизни – приобрести Царствие Небесное, поэтому, когда человек, потрудясь на земле, приобрел себе Царствие Небесное, жизнь земная уже просто ни к чему. Ну что еще здесь делать? И Господь человека берет к Себе.
«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно – как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». Когда у человека возникает вера в Бога, его стремление приблизиться к Богу еще очень мало. Те часто греховные желания, которые кипят в душе, заслоняют это стремление. Человеку хочется пить, есть, спать, веселиться, гневаться, завидовать, ругаться, злиться, мстить, блудить, хохотать, но где-то уже это семечко в его душе присутствует: ему также хочется тишины, смирения, покоя, любви, Царствия Божия, ему хочется приблизиться к Богу.
И вот по мере возрастания в человеке Царствия Небесного все остальные его желания начинают угасать, потому что человек постоянно делает выбор между грехом и Царствием Небесным. И постепенно так перестраивается, переквашивается до тех пор, пока в его душе не останется одна вожделенная мысль: он хочет только Царствия Небесного и больше ничего. Ему уже не надо ни детей, ни внуков, ни денег, ни сберкнижки, ни пенсии 120 рублей – ничего; это его абсолютно перестает волновать. Ему совершенно неважно состояние собственного здоровья. Ему важно только одно: угоден он Богу или нет, хорошо он поступает или нехорошо. Эта мысль постепенно подчиняет себе всю его жизнь.
Пока этого нет, человек еще нетверд: он вроде и Богу молится, и посты уже начал соблюдать, и в храм ходить, но еще путается в нем мирское и духовное и он часто делает нечто противоречащее заповедям Божиим, поскольку не понимает, что, собственно, цель молитвы, поста, посещения храма, чтения Священного Писания только одна – приобретение Царствия Небесного, – поэтому всякий поступок, идущий вразрез с достижением Царствия Небесного, не должен иметь места. Но человек, по привязанности, по ослепленности греховной еще много и долго будет согрешать, прежде чем окончательно не поймет, что едино есть на потребу, что на самом деле нужно только одно – постоянно искать Царствие Небесное. И когда он найдет Царствие Небесное, когда приобретет его, когда Царствие Небесное вырастет в его душе, тогда все остальное, вся мирская жизнь: и семья, и воспитание детей, и отношения на работе, и пенсия – устроится само собой, Сам Бог устроит. Часто даже диву даешься: как и откуда это берется?
Я был знаком с одной женщиной необычайных христианских добродетелей, при этом очень простой, малограмотной; она сейчас уже умерла. У нее было много детей, семь человек, но все как на подбор, не дети, а ангелы. В наше время это просто какое-то чудо. Вот говорят, в семье не без урода, но тут ни одного урода. И все снохи одна к одной, и все внуки ну просто замечательные. Как достичь, что семеро детей, и все так хороши, и все прекрасно воспитаны, и все верят в Бога, и у всех есть жены, и отношения в доме нормальные, и никто не в разводе? Люди книги читают, стараются, изобретают, консультируются, как ребенка воспитать. Ведь это такой тяжкий труд, нужно колоссально много ума. Это же не просто вырастить какую-нибудь яблоню или рябину – это ведь живой человек. Спрашиваю: «Как вы детей воспитывали?» «Никак, – говорит, – ничего особенного не делала». Я говорю: «Ну, может, наказывали или учили?» – «Нет, только слезами их воспитывала».- «Как слезами?» – «Ну вот он начинает что-нибудь не то делать – я к иконам и плачу: «Матерь Божия, помоги!»
Вот жил святой человек и искал Царствие Небесное, и Господь все Сам управил. Она как-то специально не думала над тем, как ей дом содержать, как воспитывать. Болела себе, потом уже, в последние годы жизни, ослепла даже совсем. Так жил человек потихонечку, а вокруг него все само делалось. На самом-то деле, конечно, не само, а благодатью Божией, потому что благодать Божия все созидает. Вот приедешь в монастырь, смотришь: коровы у них гладкие, шерстинка к шерстинке, кругом подметено, цветы растут, все сияет, блеск, чистота, порядок, дисциплина. Спрашивается, неужели там какие-то другие люди живут, чем в соседнем колхозе? Почему в колхозе все разворочено тракторами, все заплевано, все пьяные, коровы тощие, молока не дают? Почему в монастыре 25 литров дают, а здесь три, в чем разница?
Где благодать Божия присутствует, там она все созидает, там все начинает расцветать. Преподобный Сергий Радонежский ушел в дремучий лес, где только одни медведи, больше ничего, ни дорог, ни тропинок. Пожил, пожил, и стало все вокруг преображаться, стали даже князья ездить и бояре. Построили монастырь, и город, и церкви, и все позолотили, и все стало сиять. А с чего началось? С одного Сергия. Пришел он и благодать Божия с ним – и все начало расцветать. Так и апостол Павел ездил по Средиземноморью; куда ни приедет, там как в сказке: Илюшенька махнул рукой – улочка, отмахнулся – переулочек. Так и он: пришел, проповедь сказал – смотришь, Церковь образовалась, люди веруют во Христа, молятся, каются в грехах, причащаются. Пошел в другую страну, сказал проповедь – и новая Церковь возникла. И так просветил сотни тысяч человек. Он говорит: «Я более всех… потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною».
Приобретение человеком благодати Божией – это есть Царствие Небесное. И если жизнь наша таким образом устроится, что мы не только поймем умом, но и всем сердцем возжаждем благодати Божией, возжаждем Духа Святаго, возжаждем быть святыми и отторгнемся от этого мира, не будем к нему прилепляться и нами ничто в мире не будет владеть, то это не значит, что мы в этом мире все потеряем, будем сидеть голодные, не во что нам будет одеться. Наоборот, Господь, видя, что мы изо всех сил стараемся искать Царствие Божие, нам все приложит, что необходимо даже для нашего земного бытия, потому что Господь заботится обо всех – о людях, о птицах, насекомых, зверях. Если бы мы не истребляли зверей, все было бы ими наполнено, потому что Господь всех питает, о всех промышляет.
Но птицы, звери и насекомые живут полностью в согласии с волей Божией: как Господь ограничил их инстинктом, так они в его рамках и существуют. А человек инстинктом не ограничен, он свободен, потому что у него есть разум. И по этому разуму он и должен выбирать, как ему жить, что ему делать, какой мерою мерить. Если мы меру свою любви к Богу, к Церкви, к Священному Писанию, к заповедям Божиим будем день ото дня увеличивать, то так же возмерится и нам. Мы достигнем Царствия Божия только в том случае, если потрудимся, но в Царствии Небесном обители разные. Совершенно очевидно, что никто из нас, сколько бы он ни трудился, не достигнет меры апостола Павла, Серафима Саровского или Пресвятой Богородицы. Каждому своя мера, каждому от Бога дана своя благодать.
Главная наша цель – хоть последними, но оказаться в Царствии Небесном, перейти отдаляющую от Бога пропасть греха. Многое в нашей жизни уже потеряно, многое мы растлили, многие таланты, которые даровал нам Господь, втоптали в грязь. Мы похожи на человека, который упал с горы, переломал себе кости, проломил череп. Теперь мы вроде начинаем выздоравливать, но все еще остаемся духовными калеками, и опять подниматься в гору нам очень трудно, и, конечно, достичь самой высоты мы не сможем за эту жизнь. Но все-таки хотя бы от земли приподняться, чтобы хоть один шаг на Небо сделать – это мы не только можем, но и должны. И Господь, видя, что мы действительно этого хотим, обязательно будет нам помогать.
Только надо быть честными перед Богом, потому что это человека можно обмануть, а Бога – нет. Бог видит наше сердце, Он знает нас насквозь, знает все наши желания, все наши мысли, все чувства; мы совершенно открыты перед Ним. И Господь смотрит, куда наше сердце устремляется, к земле или к Небу; чего мы больше хотим: здесь, на земле, устроиться, чтобы все у нас было благополучно и хорошо, или все-таки нам дороже Царствие Небесное, а земную жизнь, тот крест, который Господь нам дал, мы уж как-то согласны потерпеть. Каждый входит в Царствие Небесное по желанию. Господь так и различает: хочешь в Царствие Небесное – входи, не хочешь – двери закроются. Только, если ты не хочешь, не говори, что хочешь. Бывает, человек делает одно, а говорит совсем другое. Если кто-то говорит: «Я люблю Бога, ничего мне, кроме Бога, не надо», но сам палец о палец не ударит для Царствия Небесного, то эти слова – ложь.
Апостол Иоанн Богослов говорит: любящий Бога любит и брата своего. Невозможно, допустим, любить Бога и пребывать с кем-то в ссоре. Поэтому если человек действительно возжелает Бога, он будет постоянно преодолевать рознь, вражду, преодолевать в себе грех. Господь так и сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Не та дочка любит мамочку, которая говорит: «Ой, мамочка моя миленькая», и на шею только ей бросается, когда она и так с двумя тяжелыми сумками, – а та, которая маме старается помочь, облегчить ее жизнь, не «сю-сю» разводит, а реально заботится о ней. Потому что любить – это значит жертвовать собой ради другого, вот как Господь доказал нам Свою любовь – отдал Сына Своего Единородного на смерть, чтобы нас, окаянных, спасти.
Поэтому если мы хотим быть с Богом, мы должны отвергнуться себя, своих похотений, взять крест свой и следовать за Христом. Надо себя нудить, заставлять: не хочешь молиться – а ты себя заставь; не хочешь в храм идти – а иди; хочешь есть, как свинья, все подряд – а ты себя понудь поститься. Надо все время преодолевать свою греховную природу. Вот он тебя обидел, ты хочешь ему отомстить, в голове у тебя крутится: надо было мне ему это сказать, надо было то, вот он такой, вот он сякой. А ты все-таки переломи себя, поступи по заповеди Божией. Господь как учит: «Молитесь за обижающих вас». Вот и помолись: «Господи, дай ему здоровья, ему и его деточкам, пошли ему Царствие Небесное, пошли ему всякое благополучие; Господи, не наказывай его за его прегрешения, прости, и помоги, и помилуй». И если мы сделаем над собой такое нравственное усилие, у нас и злоба пройдет против человека, и сердце наше оттает, и мы на шажок приблизимся к Царствию Небесному.
Заповедей много, и все их надо соблюдать. Что толку, если мы все исполним, а одну нарушим. Это как взойти на гору, а потом оступиться и слететь назад и опять начинать все сначала. Важно, как мы к своим грехам относимся, видим ли их в себе, боремся ли с ними или нет. И если мы против каждого греха, который есть в нашем сердце, боремся, Господь видит эту борьбу и нам помогает. А если мы рукой махнули, считаем, что это неважно? Как многие говорят: «Во всем грешен, все мы грешные». Все мы грешные? Хорошо, все пойдем в ад, в геенну огненную. Так, что ли?
Христианин должен стремиться к святости, стремиться изо всех сил. Изо всех сил стараться преодолевать в себе грех, преодолевать в себе зло, клевету, болтливость, объедение, сребролюбие – все, что есть греховного. И если мы это будем делать, тогда Царствие Небесное в нас будет возрастать.
Вот, собственно, о чем эти притчи из Священного Писания, которые мы сегодня читали, и нам надо их запомнить. Прежде всего об этом семечке, которое попадает в землю. Оно самое маленькое изо всех семян, а потом вырастает такое большое дерево. Пусть этот образ в нашу память западет, чтобы мы всегда думали о том, проросло ли семечко, которое Господь в нас заложил, дало ли какой-нибудь росток, листики-то есть какие-нибудь или все пока еще одни почки, то есть мы еще почву не удобрили, слезами не полили эту землю и ничего пока на ней не растет. Семя-то есть, а условия не позволяют ему расти. Так вот надо создать условия для того, чтобы вера, благодать Божия в нашем сердце возрастали. Аминь.
Крестовоздвиженский храм, 23 сентября 1986 года


Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова
Память священномученика Киприана Карфагенского

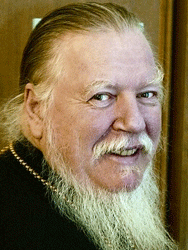 Жены-мироносицы, «войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял ужас и трепет, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Ангел велел мироносицам передать ученикам, что Господь воскрес, а они этого сделать не смогли. Господь дал им повеление идти из Иерусалима в Галилею, а они Его не послушались.
Жены-мироносицы, «войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял ужас и трепет, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Ангел велел мироносицам передать ученикам, что Господь воскрес, а они этого сделать не смогли. Господь дал им повеление идти из Иерусалима в Галилею, а они Его не послушались.
Очень часто бывает, что человек по слабости своей не слушается того, что Господь ему повелевает, и из-за этого бывает беда. Плохо, когда человек не слушается Бога, а слушается своих чувств, или мыслей своих, или кого-то из людей слушает, надеясь «на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения», потому что это проще, легче. Все человеческое льстит человеку, а Бог говорит человеку прямо. И вера православная заключается в том, чтобы как ни трудно было, но со всем упованием на Бога сделать все-таки так, как Он говорит. Надо приучаться жить не чувствами, не мнениями, не советами, прочитанными из книг или полученными от людей. Потому что советы могут быть хорошими, а могут быть и плохими, а могут быть и очень льстивыми, то есть по виду быть хорошими, а на самом деле заключать зло. Всякое действие, всякое явление всегда можно оценить по плодам, хорошо оно или плохо. Для этого надо посмотреть, к чему это приводит. На вид может быть все красиво и привлекательно, но если плоды злые, значит, это плохо. И наоборот, на вид невзрачно и вроде бы неуспешно, а на самом деле плоды приносит добрые. Господь это Своей жизнью прекрасно продемонстрировал. А если следовать тому, что люди скажут, то можно ошибиться.
Сегодняшнее воскресенье совпало с памятью священномученика Киприана Карфагенского, епископа, жившего в середине третьего века. В то время в Карфагене было страшное гонение, христиан хватали, многих казнили и ссылали. Киприан спрятался, и это вызвало большой соблазн. И если бы он пошел на поводу у этого людского мнения, то получилось бы плохо. А он, хотя и слух пополз, что, дескать, он боится, все равно не вышел, потому что у него были еще другие святительские обязанности, более важные, чем мученические. А когда уже время пришло, он сам сдался властям, даже денег палачу дал, и сам склонил голову на плаху. И христиане постелили белую простыню, чтобы собрать его кровь, потому что эта кровь была способна чудотворить.
Иногда по внешним действиям бывает очень соблазнительно и непонятно, что делает человек. Но если он поступает по воле Божией, то это всегда бывает правильно, хотя с точки зрения обычной, мирской, людской иногда и кажется диким. Но Господь заповедал нам не метать бисер перед свиньями, поэтому Он Свою волю открывает только такому человеку, который от нее не уклонится ни на волос. Воля Божия открывается только тогда, когда Господь совершенно в этом человеке уверен, что ничто его с правильного пути не своротит: ни людская молва, ни опасность, ни смерть.
Многие сейчас ищут старцев духоносных, хотят у них узнать правду, когда же конец света будет, какого числа. И никто такого старца не найдет, а если и найдет, старец никогда ему не скажет, потому что совопросников-то много, а людей, могущих исполнить волю Божию, нет. Поэтому и в древности старцы часто говорили прикровенно, в форме притчи. Один человек у Серафима Саровского нечто вопрошал, а он молчал и спички ломал, чтобы его натолкнуть на мысль, что если он не прекратит грешить, то дело кончится пожаром. И действительно, пожар случился, все сгорело. Преподобный Серафим очень жалел всех, кто к нему приходил, и любил от всего сердца, каждого принимал как родного, говорил: «Радуйся, Господь с тобою, Христос воскресе». Это не формула была, не просто что-то такое заученное, как: Ангела-хранителя вам, то, се. Это все не было ритуалом, а шло от сердца. И поэтому он не мог сказать волю Божию человеку, потому что воля Божия – это слишком тяжелая ноша, совсем не каждый это может понести.
Даже жены-мироносицы, которые были весьма близки к Богу, но все-таки, когда Ангел возвестил им волю Божию, не сумели ее выполнить, свой естественный страх не смогли преодолеть, потому что не было еще в них достаточно любви Божией. Только совершенная любовь к Богу изгоняет страх. Тогда человек ничего не боится, он просто вверяет себя Богу и знает, что действительно волос с его головы не упадет. Это не значит, что человек лезет на рожон, как был случай с одним священником: говорит, у меня на груди Святые Дары, пойду-ка я по водам, что со мной может быть? Пошел и утонул. Потому что как это вообще можно, что за наглый такой поступок? Ну ты священник, а что в этом такого особенного? Поэтому когда человек в чувстве гордости желает Бога испытать, Бога проверить на прочность, то бывает, конечно, всяческая беда. Речь идет не об этом. Речь идет о том, когда Сам Господь человеку предлагает нечто испытать. Тогда это всегда зачем-то нужно. И это испытание не обязательно бывает за что-то. Конечно, если у тебя белая горячка, то ясно за что: за то, что пил много. Тут, как говорится, все конкретно. А бывает, что такой прямой зависимости нет и совсем другой надо вопрос ставить: зачем? Что Господь хочет данным испытанием, ниспосылаемым человеку, в нем воспитать? Что человеку нужно, преодолевая вот эту трудность или скорбь, в себе изменить?
Господь хочет наши души привести в соответствие с Царствием Небесным, Он хочет, чтобы мы все спаслись. А мы немощны, мы боимся и уклоняемся, и из Евангелия мы стараемся принять только то, что нам легко. Но ведь нельзя в Евангелии что-то выбрать, а что-то оставить. Выбор – это есть ересь. Бог не может разделиться, так же и слово Божие: к нему нельзя ни прибавить, ни убавить. Но чтобы следовать воле Божией, нужно мужество, которого у нас нет в силу многих причин: неправильного, изнеженного воспитания, себялюбия, саможаления. Это все очень расслабляет. Если бы жизнь была суровей, мы были бы получше. Потому что чем жизнь изнеженней, тем человек менее мужественен. А мужество – очень важная, нужная добродетель, необходимая. Потому что без решимости начать новую жизнь и начинать ее каждый день невозможно достичь спасения. Просто Господь без этой решимости не будет нам помогать. Потому что это то же, что метать бисер перед свиньями.
Хочешь быть свиньей? Ну будь, пожалуйста. Больше половины человечества в этом свинстве валяется, целые народы. Каждый делает свой законный выбор, Господь никого не хочет заставлять. Хочешь? Давай спасайся. Не хочешь? Ну что же, пропадай, как все. Жалко тебя? А как же, конечно, жалко. Но что же делать-то, нельзя же волю человека насиловать. Насиловать волю человека – это значит превращать его в животное, то есть уже другой вид получится, не homo sapiens, а не поймешь чего. Зло пресечь легко. Пожалуйста: ворует человек – ну отруби ему руки, и не будет воровать. Ругается – язык вырежи. Смотрит не туда – глаза ему выжги, это же дело пустяковое. Но чего ты этим достигнешь? Что, человек лучше, что ли, станет, перестанет хотеть воровать? Нет, не перестанет. И образы, которые его мучили, пока он был зрячий, от него не уйдут, когда он ослепнет.
Поэтому только когда человек сам имеет решимость от греха избавиться, только тогда Господь придет ему на помощь. И эту решимость, это мужество надо в себе воспитывать, а на это уходит вся жизнь: понуждать себя, когда устал и уже сил нет, все равно вставать правило читать, понуждать себя ходить на службу, понуждать себя читать Евангелие, понуждать себя навещать больного – все время так себя нудить, нудить, чтобы все время торжествовала заповедь Божия. И те люди, которым удается вот так по совести всю свою жизнь исправить, достигают благодати Божией.
Таким был Симеон Новый Богослов, который еще молодым человеком так умел обнажить свою совесть, что поступал всегда по правде, и благодать Божия с юности была с ним. Поэтому когда читаешь его совершенно божественные писания, то любого человека просто ужас берет и кажется, что совсем никто не спасется. Потому что он пишет все это с такой небесной высоты, что простому смертному этого не достичь. И Церковь его исповедует богословом, а богословов всего в Церкви три: Иоанн – любимый ученик Христа, Григорий и он. Но он достиг этого благодаря тому, что вот так мужественно поступал только по совести, во что бы то ни стало, вопреки всему. Можно было бы ему быть и более политичным, и гибким, и прочее, прочее, но он избрал путь прямой. Много, конечно, через это натерпелся. Можно было бы, конечно, пройти и более удачным путем с точки зрения человеческой, но такого огнепального, духоносного присутствия в себе Божества он, конечно бы, не достиг; тех гимнов он, конечно, никогда бы не написал – не в смысле поэтическом, хотя по форме они тоже весьма и весьма высоки, а в том смысле, что ему не было бы открыто то, что он в них отразил.
А эти гимны таковы, что Феофан Затворник даже сомневался, стоит ли их переводить на русский язык, потому что очень мало на земле людей, которые адекватно могут это все воспринять. Потому что это запредельная, небесная высота. Это из той же области, что метать бисер перед свиньями и говорить человеку волю Божию, когда он не сможет ее исполнить. Какой смысл? В этом нет никакого смысла. Это только человеку повредит, лучше пусть поступает, как он сам знает, это будет менее беспощадно по отношению к нему, чем ему открыть нечто. «Или слово священническое попраша, или под клятвой священническою быша, или под свою анафему падоша» – то есть равносильно тому, как будто сами себя прокляли.
Это, конечно, говорится не для того, чтобы нас как-то напугать. В христианстве нет ничего страшного, пугающее – это только состояние нашей общей греховности. Но в то же время какая прекрасная надежда: Христос воскрес, и каждую седмицу Господь нам об этом через Церковь напоминает, хочет нас спасти, любит нас, жалеет нас, всех собирает. Мы имеем возможность слышать слово Божие, все глубже и глубже в него проникать. И обязательно нужно стараться совершать и поступки евангельские, то есть жить не как прочие человецы, которые идут на поводу своих сластей, страстей, слабостей, представлений, каких-то лукавств, какой-то политики, а именно правильные поступки с точки зрения Евангелия совершать, преодолевать свою немощь – и так постепенно раз за разом душу укреплять. Вот возьми гантели и поднимай – мышцы будут расти, расти. А как перестанешь, так они и ослабнут, и все вернется к прежнему. Так и в любом искусстве нужно постоянное, постоянное упражнение. В этом слове ничего плохого нет, даже говорят «упражняться в молитве» – потому что с молитвой сопряжен именно труд, понуждение себя, беспощадность, самоотверженность, и это все дается, конечно, любовью к Богу.
Если человек действительно Бога любит – потому что это есть заповедь: люби Бога, – он будет стараться ради этой любви, ради того, что мало на земле людей, которые Бога любят, и для Него это очень прискорбно. Бог отдал Сына Своего Единородного на смерть, чтобы всех спасти, а людям этого не надо, у них свои заботы: кто в кино пошел, кто картошку сажает, кто колорадского жука собирает, кто думает: вот сейчас я весь мир ошеломлю, трилогию какую-нибудь напишу, всю правду скажу. Некоторые так и говорят: мне есть что сказать людям. Потрясающе, надо же, великий человек! Это просто смешно. Бывает, конечно, ситуация, когда человек родился поэтом, он несчастный, одержимый, и он не может не писать. Ну что же тут сделаешь? Тогда как бы приходится. И то, если человек ищет духовной жизни, как Иоанн Дамаскин – пришел в монастырь, ему старец сказал: все, это дело ты брось, – и он замолчал и ничего не писал, хотя был гений, один из немногих гениев всех времен и народов, но он это все отложил. Однажды потом из него все-таки вырвалось, он нарушил этот запрет и написал то, что мы поем на отпевании. И монахи просили старца, чтобы он Иоанна простил, а то старец его выгнал с глаз долой. А если бы он не написал, то отпевание имело бы какие-то другие слова, не было бы «кая житейская сладость». Сколько отпеваешь, но всякий раз, как видишь эти слова, начитаться нельзя, настолько они необыкновенны. И то – запрещено. Потому что душевредно, а душа все-таки важнее.
Поэтому нам нужно упражняться постоянно в малом. От нас сейчас никаких подвигов не требуется, нет гонений никаких, никто не трогает, не обижает, в КГБ не вызывают, руки не выкручивают, все тихо, мирно, молись, трудись, старайся. Потому что обязательно, обязательно настанет время, когда, как Киприану Карфагенскому, нужно будет прийти и спокойно, с достоинством положить голову на плаху и еще дать несколько монет палачу, чтобы показать, как умирает православный епископ, вообще как это надо. Потому что каждому из нас нужно умирать, каждому из нас придется болеть, придется страдания в жизни перенести – и как мы выдержим этот самый главный экзамен? Если мы сейчас не будем в этом упражняться, тогда с чем к Богу пойдем? Ведь конец – делу венец.
Хорошо, если кто-то какой-то памятник нерукотворный себе создаст в течение жизни. Это само по себе неплохо, лирой добрые чувства в людях пробуждать – это хорошо. Но не это главное, главное все-таки спасение души. Главное сокровище – вот это сердечное, тайное, внутреннее, которое знаешь только ты сам и Бог, ну отчасти, может быть, духовник твой знает, насколько у него хватит любви проникнуть в твое сердце. Но даже самый прекрасный духовник до конца в глубину души не может проникнуть, потому что он сам немощной, грешный человек. Только в ту степень, в которую ему Сам Бог откроет – то есть это все равно не человеческое, все равно Божие. Поэтому перед Богом надо стараться быть прямым и чистым. Нам, людям лукавым, изнеженным, это очень и очень трудно. И нет ничего удивительного, что это у нас не получается, а многим вообще трудно понять, о чем идет речь. Но надо стараться этому следовать мужественно, спокойно, твердо, с любовью и с величайшим по возможности смирением. Не мудрствовать о себе высоко, не считать себя чем-то, ни в коем случае стараться никого не осуждать, никого не учить, никого никуда не тащить, не заставлять, знать свой шесток.
Это очень много – стараться действовать не по страсти, а по заповедям Божиим. И Господь не замедлит, Он всех нас любит, всех нас знает, все мы у Него наперечет, о каждом Он заботится, каждого хочет спасти, хочет, чтобы вся Его забота о нас даром бы не пропала. Господь нас слышит, Он думает о нас, Он не забыл нас. Это нам иногда так кажется, а Он просто ждет и медлит, потому что нечто нужно нам потерпеть, нечто нужно принять. Иногда что-то кажется нам в нашей жизни совершенно несправедливым и мы спрашиваем: за что? Но этот вопрос в корне, методологически неправильный. Киприану Карфагенскому за что голову отрубили? Это был лучший из людей, которому принадлежит замечательное выражение, которое мы повторяем уже тысячу семьсот лет: «Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец». Пожалуйста, веруй в душе, но ты к Богу не имеешь никакого отношения, потому что Бог пришел во плоти. А кто «не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти», в том «дух антихриста», он вне Православной Церкви, вне спасения.
Сразу спросят: а как же малайцы? неужели все погибнут? В любом народе каждый делающий правду Богу приятен, и Господь, если захочет, может и малайца спасти. Любого человека, если этот человек захочет, как Симеон Новый Богослов, жить по правде, Господь из любой страны может вызволить и привести к Церкви, а если Ему угодно, может и прямо спасти. Для Бога никаких преград нет: ни поверхности моря, по которому Он может легко ходить, ни времени, ни пространства. Для Бога этого ничего нет, Он все пронизывает; «Бог идеже хочет, побеждается естества чин: творит бо елика хощет»; что Ему угодно, то Он может сотворить. Поэтому тут проблем-то никаких нет. Проблема только для человека, который пытается себя в чем-то оправдать: я в церковь не хожу, потому что смоковница засохла. Вот перед собой поставит сухую смоковницу и претыкается. Не потому, что здесь есть преткновение, а потому, что ему нужен этот барьер, чтобы оправдать себя. А мы поем: «Научи мя оправданием Твоим». То есть Бог должен Сам человека оправдать. Только это оправдание имеет силу, когда Господь человека очищает и спасает, а не сам человек оправдывается: это я потому-то, это поэтому-то. Много всяких причин, ну и оставайся с ними.
Можно так свою совесть заглушить, что вроде бы все в порядке и культурно. А если она чуть начинает вылезать, ее чем-нибудь оглушить. Почему все люди стремятся к развлечениям? Скорее бы кончилась работа – а там выходной, потом отпуск или еще что-нибудь, чтобы отвлечься. А это отвлечение состоит в том, чтобы погрузиться в какие-то удовольствия, чтобы не думать, не ощущать, чтобы совесть аккуратненько пригасить. И так можно некоторое время существовать, некоторым даже удается десятилетиями – кто спивается, кто просто в ритм вошел: работа – телевизор, работа – телевизор. Но потом все равно придется болеть, все равно придется умирать, все равно придется близких терять – все равно будешь поставлен перед этим экзаменом. И когда хоть что-нибудь знаешь, то на тройку можно сдать, но когда ничего не знаешь, это просто конец, просто тоска, просто смерть в вакуум, в ноль. Вот в чем ужас.
А экзамен будет все равно. Хочешь – пей, хочешь – в телевизор залезь с ногами, все равно придется ответ держать, от этого никуда не денешься. Слушаешься – не слушаешься; работаешь в поте лица – ленишься; как сумасшедший с утра до вечера дачу свою вылизываешь или вообще ничего не делаешь, лежишь, в потолок плюешь – все равно придется это решать. И это реально, через смерть все проходят. Можно, конечно, себя обмануть, себя завертеть, свою голову закрутить под крыло, но ведь это же неправильно, нетрезво, не по-человечески. Лучше все-таки, наоборот, как-то заострить, пусть это может быть и болезненно, и трудно, и боязно, и ужас берет. А собственно, ну что ужасного? Что тут такого нового? Ну да, мы все грешные. И Господь пришел, протягивает руку, чтобы грешника, каждого из нас, спасти. Нам только остается не упираться, а с благодарностью, со смирением, с покаянием это все принять. Просто надо за эту руку, с любовью протянутую, взяться и в корабль, как Петр, залезть. И все, и, слава Богу, кончится весь этот ужас.
Ведь с Богом как же хорошо! Ведь каждый из нас, раз мы здесь, в храме, стоим, с Богом бывал, может быть, минуту, может быть, секунду. Ведь это же какая сладость, это же Небесное Царство! Какая красота! И сердце каждого из нас на самом деле знает, что именно это – жизнь, а не то, что вовне, во всяких отвлечениях и во всякой суете. Помоги нам, Господи, по молитвам всех святых вот этого мужественного выбора постоянно держаться. Аминь.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, 12 сентября 1992 года, вечер
—————— СРЕДА ——————


Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова
О стойкости в бурях

Мк.4:35-41, 2 Кор.13:3-13.
 Однажды Господь с учениками переправлялся через Геннисаретское озеро. «Поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою», а Господь спал. Ученики, пораженные такой безмятежностью, будят его, и укоряют: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем»? А Он, встав, «запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих». И вдруг после такой великой бури сделалась еще более «великая тишина». Ученики еще более «убоялись страхом великим и говорили между собою: кто это, что и ветер и море повинуются Ему»?
Однажды Господь с учениками переправлялся через Геннисаретское озеро. «Поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою», а Господь спал. Ученики, пораженные такой безмятежностью, будят его, и укоряют: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем»? А Он, встав, «запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих». И вдруг после такой великой бури сделалась еще более «великая тишина». Ученики еще более «убоялись страхом великим и говорили между собою: кто это, что и ветер и море повинуются Ему»?
По-человечески, страх учеников был вполне обоснованным, но Господь укорил их: «что вы так боязливы? как у вас нет веры»? Значит, хотя лодка «уже наполнялась водою», и смертельная опасность была пред глазами, – они не имели права бояться. Значит Господь к этому времени дал им достаточно доказательств Своей силы. Значит человек обязан знать, что очи Господни всегда отверсты на Свое творение. Если посвятил себя Богу, сказав: «да будет воля Твоя», – будь готов и к жизни, и к смерти, помня, что «Жизнь, или смерть» – «все ваше; вы же – Христовы, а Христос – Божий» (1 Кор.3:22-23).
Во всех стихийных и житейских бурях Господь устами Апостола говорит нам, называющим себя христианами: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследывайте». Почему вышли из себя, или упали духом? «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть». Да, «разве только» мы «не то, чем должны быть». Нельзя быть христианином, и жить в страхе. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего Владыки; а в ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится» (Слово 21).
Но иные не боятся смерти просто по причине окамененного нечувствия. А некоторые, под тяжестью испытаний, даже сами ее желают. Но вот как раз чего я должен бояться при мысли о смерти, так это – с какими глазами предстану пред Богом, если здесь не претерплю до конца и не усвою всех уроков, которые Он мне посылает?
Приближение смерти не снимает обязанности – иметь полноту жизни во Христе. Даже за час до смерти я обязан и любить врагов, и не отвечать злом на зло, и даже накормить врага, когда он голоден. Я должен это делать, хотя бы весь мир отступил от Христа, хотя бы и те, кого почитаем столпами Церкви, поколебались, и некому было бы ни подать примера, ни похвалить, ни наказать. «Молим вас, – пишет Апостол, – чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Вот, даже к таким бурям надо себя готовить. Такая должна быть в нас сила веры. И оснований для этого более, чем достаточно. Ибо Христос, хотя и «распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем». И хотя порой покажется, что уже вода залила ковчег нашей Церкви, но вопреки всему «будем живы с Ним силою Божиею».

Проповедь протоиерея Димитрия Смирнова
Среда седмицы 14-й по Пятидесятнице

На Мк.4:35-41.
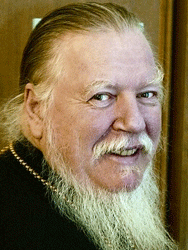 Господь сказал Своим ученикам: «Переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина».
Господь сказал Своим ученикам: «Переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина».
Однажды Господь нам тоже сказал: давайте переправимся на другую сторону – и каждый из нас поплыл. Каждый человек, родившийся из утробы матери, должен переплыть житейское море. К этому нас понудил Господь, потому что никто не может сказать: это я сам захотел жить – и родился, и теперь живу. Каждый человек именно такого внешнего вида, именно таких способностей, дарований, такого устроения вызван к жизни Богом от определенных Им родителей.
Есть такая поговорка: жизнь пройти – не поле перейти. Поле, даже большое, перейти просто, а вот в жизни бывает очень много всяких волнений, трудностей, скорбей и болезней. Нечто подобное испытали и ученики Спасителя. Когда Господь проповедовал Евангелие Царства Божия, чтобы народ Его не теснил, Он на лодке немножко отплыл от берега, а люди стояли по бережку, и Он мог спокойно держать к ним речь. А когда Господь отпустил народ, то прилег на корме отдохнуть и уснул. И вот началась великая буря, потому что озеро Галилейское очень большое и, когда поднимается ветер, там бывают высокие волны.
Волны стали перехлестывать через борт, так что лодка уже почти тонула. Ну, конечно, ученики испугались и стали Его будить: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим в этих словах прямо укор: как Тебе, дескать, не стыдно, мы погибаем, а Тебе вроде и нужды нет. Как же можно спать? Тут буря такая, а Ты спишь. Господь проснулся и «запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань». И море сразу утихло. Потом, обратившись к апостолам, Он сказал: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры?» То есть Господь их в свою очередь укорил.
Каждый из нас вызван к жизни Богом, и Бог каждого ведет по жизни. Но если человек забывает, что он не сам по себе живет, а живет по промыслу Божию, он начинает всего бояться. Когда человек теряет веру в Бога, он живет в постоянном страхе, у него очень много всяких переживаний: как бы ему не остаться голодным, как бы не лишиться пенсии, как бы не простудиться и не заболеть. И Господь вскрывает причину этого страха – она в маловерии. Потому что, удалившись от Бога, человек не чувствует, что и волосы на голове у него все сочтены и ни один из них без воли Божией не выпадет.
Жизнью каждого человека распоряжается Господь. И если тебе надо поболеть по промыслу Божию, то ты поболеешь, как бы ты себя ни берег, сколько бы ни кутался и лекарств ни принимал. Если Господь сказал, что твой час пробил, то, какое бы у тебя крепкое здоровье ни было, ты умрешь. Человек умирает не от того, что он заболел, а потому, что Господь берет его душу. Бывает даже, в день выписки из больницы идет человек за своей картой к старшей медсестре и в этот момент умирает. Ну как же так, его же вылечили, почему он умер? А про другого говорят: он проживет два месяца – а он живет двадцать лет. Как так? Вроде болен, должен умереть – но нет, суд Божий об этом человеке иной.
Наша жизнь в руках Божиих, а все наши страхования навеваются дьяволом, потому что страх изгоняет любовь. Но истинная любовь к Богу изгоняет страх, она делает человека бесстрашным. Когда человек любит Бога всей душою своею, всем телом своим, всем помышлением, всей крепостью, он ничего не боится, потому что чувствует себя находящимся в сильной руке Божией. Чувствует, что Господь его хранит, Господь его любит, Господь его ведет. Если же человек вдруг чего-то ужасается – он сразу начинает тонуть в житейском море. Это неизбежно, потому что, когда человек впускает в свое сердце страх, неверие, это значит, он впускает в сердце дьявола, который вытесняет оттуда благодать Божию.
Сегодняшнее Евангелие говорит как раз об этом. Господь спрашивает: что ж вы так испугались? Я же с вами. Чего бояться, когда с нами Бог? А человек, по своему маловерию, постоянно ужасается, постоянно строит свою жизнь не на Боге, не на том, что он христианин, а на своих житейских предрассудках. Он почему-то считает, что, если будут у него деньги, значит, он будет счастлив; или если будет у него здоровье, значит, он будет жить долго. Или, допустим, жена думает: вот я сейчас с мужем разведусь, и у меня будет покой. Это все глупости, потому что Господь каждому дает крест в зависимости от его души, для того, чтобы человека спасти и привести в Царствие Божие. А человек строит свою жизнь не по заповедям Божиим, а по каким-то собственным причудам и даже не задумывается, а согласно ли это с волей Божией. И оказывается, что часто бывает и не согласно. Поэтому причина всех наших страхов: как бы чего не случилось, как бы чего с нами не вышло, – в маловерии. И поэтому всякий страх – это есть грех, это есть отступление от Бога.
Кто-то спросит: а почему же Господь заложил в нас страх? Ведь это естественное чувство, которое нам свойственно. Для чего оно существует в сердце человека? Действительно, страх должен быть в нашем сердце, но совершенно иного рода – страх Божий. Иметь страх Божий означает бояться нарушить заповедь Божию; означает жить так, чтобы каждую секунду бояться: как бы я чем Бога не обидел, как бы я чем Бога не оскорбил, как бы я чего-нибудь такого не сделал, что Господь от меня отвернется. И свою природную способность к страху нужно направлять именно на это. В остальном же мы должны жить совершенно спокойно, зная, что без воли Божией с нами ничего не произойдет.
Если что с человеком и случается, это бывает только по двум причинам. Во-первых, как следствие греха. И если человек внимательно подумает, помолится Богу, то увидит, что чаще всего, в девяноста девяти случаях из ста, виноват он сам. Но бывает один случай из ста, когда действительно человек прямо не виноват в том, что с ним произошло, но для развития его души ему необходимо это потерпеть. Потому что Царствие Небесное такого свойства, что туда можно войти только с чистой душой, как в Евангелии говорится: в брачной одежде, то есть обязательно к этому вхождению нужно приготовиться.
Вот, допустим, живет на свете человек малодушный, а Господь хочет, чтобы он свое малодушие преодолел и стал бы мужественным, вместо трусости приобрел бы храброе сердце, потому что для жизни в Царствии Божием именно этого ему не хватает. И чтобы он это мужество в себе воспитывал, Господь постоянно будет ставить его в такие ситуации, где ему нужно мужество проявить. Чтобы оно в его сердце закрепилось, а трусость из его сердца ушла. Чтобы он всю надежду свою учился возлагать на Бога, а не на какие-то свои слабые силы и потуги. Сила Божия совершается в немощи. И когда человек познает собственную немощь, он себя вверяет Богу: Господи, Ты Сам меня управь, Ты Сам меня сохрани, Ты Сам меня спаси.
Только избави нас Бог согрешать, потому что тогда Господь Свою охраняющую руку от нас уберет и мы будем терпеть наказания за наши прегрешения, то есть будем сами вызывать гнев Божий. Если человек совершает какое-то преступление и его сажают в тюрьму – разве Бог здесь виноват? Нет, конечно, человек виноват сам. Но бывает, что человек не ворует, живет честно, а его оклеветали и посадили в тюрьму ни за что. Хотя, может быть, все-таки в детстве или в юности он что-нибудь и украл, и ему ничего за это не было, и вот сейчас, спустя двадцать лет, Господь желает его спасти и дает потерпеть за то, что он совершил много лет назад. Но даже если человек сидит ни за что, он должен задать себе вопрос: а зачем мне надо обязательно посидеть в тюрьме? И если он поразмыслит, то быстро поймет: как зачем? во-первых, я не ценил то, что у меня была хорошая семья; во-вторых, я недостаточно любил своих детей, недостаточно хорошо их воспитывал и мало уделял им внимания. Я не радовался тому, что у меня хорошая работа и я в добрых отношениях с сотрудниками. У меня было телесное здоровье, а я употреблял его не во славу Божию, а на грехи. И Господь по милости Своей, видя, что я человек вообще-то не плохой, желает меня от этих грехов оградить. Вот Он и избрал такой путь: взял меня, вырвал из одной среды и пересадил в другую, чтобы меня спасти. Пусть я посижу лет пять-десять, но, хоть это и тяжело, и очень болезненно, и скорбно, зато моя душа спасется.
То, что Господь с нами творит, это всегда нужно. То, как Господь нас ведет, это всегда нам необходимо и бывает всегда по двум причинам: либо как следствие нашего греха, либо как помощь Божия для нашего спасения, для улучшения устроения нашей души. Поэтому и в том, и в другом случае надо принимать с радостью то, что Господь нам посылает, а всякий страх изгонять. Что самое страшное может с нами случиться? Чего больше всего боится человек? Смерти. Но ведь боимся мы или не боимся, рано или поздно, а мы все равно умрем. Тогда чего бояться? И так ли уж важно, как мы оставшиеся пятнадцать-двадцать лет проведем: в двухкомнатной ли квартире или в трехкомнатной? в холодной ли, в теплой ли? в Сибири ли или в Ленинграде? Неужели стоит из-за этого копья ломать, всю жизнь свою коверкать? Гораздо важней, как мы умрем. С чем мы к Богу придем – вот что важно.
И хотя, может быть, умом мы все это понимаем, но сердце наше слабое, вера наша еще слабее, и грехов у нас столько, что мы Бога-то и не чувствуем. Поэтому когда на нас накатывается какое-то жизненное испытание, нам кажется, что все рушится. Очень часто у нас бывают такие панические состояния, когда мы думаем, что все пропало. Что тогда делать? А надо делать то, что сделали ученики Христовы. Им казалось, что Бог спит и они погибают, – и нам тоже иногда кажется, что Бог заснул, что Бог нас не слышит, что Бог далеко. А Господь рядом, и Он все прекрасно знает, и Он все прекрасно видит, нам только нужно к Нему воззвать: Господи, мы погибаем! Воззвать именно от всей души, из глубины, а не просто так, на авось: приду, молебен закажу Казанской, Владимирской, Скорбящей закажу и Взысканию погибших, всем четырем – может, поможет. Но все равно, даже и так Господь видит, что человек к Нему как-то обращается, хоть в такой форме, и Он готов ему помочь.
Если у нас будут тяжелые жизненные обстоятельства: какая-то у нас будет нужда, или болезнь, или трудности, или скорбь, – и на нас нападет ужас, мы должны знать, что это состояние души возникает от навета дьявола. Причина его – маловерие, а избавление от этого – в молитве: Господи, помоги, помоги! И Господь, конечно, со скорбью посмотрит на нас, что мы такие маловерные, но все-таки поможет. Вот как бывает: мама с ребеночком пошла в магазин, а чтобы его не толкали по очередям, говорит: постой здесь, я сейчас приду. Только она отошла, а он начинает кричать: мама, мама. Она говорит: ну что ты? я же сказала, сейчас приду. Нет, он все равно кричит – он как бы не верит родной матери, не верит, что она рядом. Вот так и мы поступаем по своей глупости, по своему недоверию к Богу. Мы сами лживы, поэтому нам кажется, что и Бог такой же. Но Бог-то совсем не такой, Бог верен во всем, и Его слово незыблемо. И раз Господь сказал в Евангелии, так оно и есть. И если мы, такие маловерные, но все-таки обращаемся к Богу, то Он, как мать, услышав крик своего дитя, бежит ему на помощь – хотя дитяти не помощь нужна, а ему нужно наподдать, чтобы не орал попусту, – так и Господь придет, утешит и утишит ту бурю, которая на нас накатывает.
Поэтому молиться нам нужно не о том, чтобы спастись от всяких жизненных обстоятельств, от болезней, от каких-то трудностей, а молиться нам нужно только об одном: чтобы Господь даровал нам в укрепление благодать Святого Духа. Но в силу того, что мы люди немощные, грешные, то о благодати Божией мы как-то и не вспоминаем, она нам как бы даже и неинтересна. Мы люди плотские, нам бы здесь устроиться, чтобы ничего не болело, чтобы денежки водились, чтобы все было хорошо, чтобы никто с нами не ссорился, чтобы мы со всеми жили в мире, и так вот все у нас бы текло благополучно, и здоровыми бы нам помереть. Вот такая у нас задача, и об этом мы у Бога все время и просим. А Господь хочет нам даровать Царствие Небесное. Поэтому хотя, конечно, Он и помогает нам, когда мы молимся о здравии или когда кто-то на нас нападает, но цель Его пришествия на землю не такова. Он пришел, чтобы сделать нас сынами Царства. И Господь хотел бы, чтобы мы просили только об одном: о Царствии Небесном. Он так и сказал: «Ищите прежде Царства Божия… и это все приложится вам».
Поэтому то, что будет с нами, надо просто потерпеть – значит, так Богу угодно, значит, это полезно для нашей души. И очень бы неплохо нам свое сознание перестроить именно на духовный лад, чтобы нам стремиться к духовному, стремиться к Царствию Небесному, а все трудности житейские мужественно, терпеливо преодолевать. Как говорят в народе: Господь терпел, и нам велел. А мы все ноем, мы все жалуемся, все нам не так, мы только своим здоровьем интересуемся, как будто собрались здесь, на земле, тысячу лет жить. Прямо так всех беспокоит, что с их мясом происходит, какие процессы: там кольнуло, здесь кольнуло – и уже перепугались. Трудно, конечно, болезнь переносить, но что делать? Не надо грешить. Кабы мы не жили в грехе, так и не болели бы. Кабы мы в Адаме не согрешили, мы вообще были бы бессмертны, смерть бы не понадобилась. Но смерть, как предел, для того и существует, чтобы прекратить наши беззакония.
Поэтому это все милость Божия – и болезни, и тяжелые обстоятельства. А если уж нам невмоготу, то надо не стараться увиливать, потому что увиливать некуда. Вот плывем мы по этому житейскому морю – куда тут прыгнешь? Кругом волны: направо прыгнешь – волна, налево – волна. Куда нам деваться? Только к Богу: Господи, помоги, Господи, утиши, Господи, Ты меня вразуми, Господи, Ты придай мне терпения. Все наше спасение – в Боге. И для этого Господь и посылает нам всякие испытания, чтобы нас немножко к Себе обратить. Потому что будь у нас все спокойно, все хорошо, все сытно – Бог уже окажется совсем не нужен. Вот во Франции, говорят, тысячи храмов закрываются, и не то что насильно – нет, просто в них перестают ходить, они никому не нужны. Ну зачем человеку Бог, когда деньги есть, две машины есть, двухэтажный дом есть, три жены есть – что еще нужно? И так все хорошо, здоровье отличное, а если что-то заболело, есть прекрасная больница.
Поэтому когда Господь любит человека, Он ему посылает испытания, чтобы возбудить в нем покаяние, чтобы человек как-то немножко встряхнулся, подумал: может быть, я чем-то согрешил, может, я в чем неправ. Если у нас случаются какие-то скорби, это значит, что Господь нас любит, Он, значит, нас зовет к Себе, Он хочет, чтобы мы Ему помолились. Потому что когда у нас все хорошо, мы и молимся с трудом. Откроем молитвослов и зеваем: «Святый Боже, Святый Крепкий», – а сами о чем-то думаем. А когда у нас что-то болит, или кто-то в тюрьму попал, или когда дочка запила – тут уж молитва совсем другая пошла. Тут уж и молимся со слезами, тут готовы и поклоны класть, и к каким-то знаменитым батюшкам съездить или в монастырь, думаем, куда бы что подать, где бы что заказать – совершенно другая жизнь. Почему? Господь тронул за живое.
Мы сами ничего не делаем, поэтому не надо обижаться, когда Господь нас как бы заставляет немножко помолиться. Наоборот, надо радоваться, потому что иначе нас не заставить. Нас немножко, чуть-чуть в Царствие Небесное надо подталкивать. И Господь так и делает. Поэтому будем благодарить Бога за Его бесчисленные милости, будем радоваться, когда на нас падают какие-то испытания. А если уж нам невмоготу, если мы такие маловерные и не можем потерпеть то, что с нами приключается, то мы всегда можем Богу помолиться: Господи, нет сил уже терпеть, помоги. И Господь Сам управит. Господь увидит, что действительно изнывает человек, тяжело ему, и Он поможет – если не совсем, то хотя бы облегчит.
Поэтому всегда надо стараться жить так, чтобы всю свою жизнь Богу вверять. И Господь нашего упования не посрамит. Аминь.
Крестовоздвиженский храм, 24 сентября 1986 года
Источник: https://azbyka.ru/days/2022-09-13
(142)
